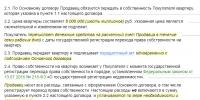Якубинский л п о диалогической речи. Глава i
Лев Петрович Якубинский (1892–1945)
О ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Якубинский Л. П. Избранные работы: Язык и его функционирование // Отв. ред. А. А. Леонтьев. М.: Наука, 1986. С. 17–58.
Глава I. О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МНОГООБРАЗИЯХ РЕЧИ
§ 1. Речевая деятельность человека есть явление многообразное, и это многообразие проявляется не только в существовании бесчисленного множества отдельных языков, наречий, говоров и пр. вплоть до диалектов отдельных социальных групп и, наконец, индивидуальных диалектов, но существует и внутри данного языка, говора, наречия (даже внутри диалекта данного индивида) и определяется всем сложным разнообразием факторов, функцией которых является человеческая речь. Вне учета этих факторов и изучения функционально соответствующих им речевых многообразий невозможно ни изучение языка как непосредственно данного живому восприятию явления, ни уяснение его генезиса, его «истории».
§ 2. Язык есть разновидность человеческого поведения. Человеческое поведение есть факт психологический (биологический), как проявление человеческого организма, и факт социологический, как такое проявление, которое зависит от совместной жизни этого организма с другими организмами в условиях взаимодействия.
Отсюда очевидно, что те факторы, о которых мы говорили выше, будут либо факторы психологического, либо факторы социального порядка.
§ 3. Психологическая обусловленность речи предполагает необходимость различать следующие основные ее видоизменения: с одной стороны, речь в условиях нормального, патологического и ненормального состояния организма; с другой стороны, речь при преобладающем влиянии эмоционального или интеллектуального момента 1 .
Все эти видоизменения (за исключением разве случая ненормального состояния организма) прекрасно учитываются современной лингвистикой; но, к сожалению, только учитываются, конкретного же исследования речевых явлений в плоскости обусловленности их теми или иными из указанных факторов почти нет. До сих пор лингвистика работает врозь с патологией речи, до сих пор не исследованы явления эмоциональной речи, нет даже сырого материала по этому вопросу за исключением области словоупотребления, где далеко еще не достигнуто удовлетворительных результатов. Влияние эмоциональных состояний различного порядка на произношение совершенно не изучено, а между тем это представляло бы огромный интерес для исторической фонетики, которая в этой области либо принуждена молчать, либо ограничивается случайными и малоубедительными замечаниями вроде приведенных мною в статье «О звуках стихотворного языка» 2 . Точно так же не исследована в этом отношении и область синтаксиса.
Особенно плохо обстоит дело в лингвистике с речью при ненормальных состояниях организма, в частности я имею в виду речевую деятельность при лирическом стихотворном творчестве, где выяснение этого вопроса было бы особенно важно ввиду того, что тогда можно было бы выделить в речи лирического стихотворения те ее особенности, которые обязаны влиянию особого ненормального состояния организма и не имеют художественного происхождения.
§ 4. Что касается факторов социологического порядка, то они могут быть классифицированы следующим образом: во-первых, должны быть приняты во внимание условия общения в привычной среде (или средах) и взаимодействия с непривычной средой (или средами); во-вторых, - формы общения: непосредственные и посредственные, односторонние и перемежающиеся (об этом см. ниже); в-третьих, - цели общения (и высказывания): практические и художественные; безразличные и убеждающие (внушающие), причем в последнем случае интеллектуально и эмоционально убеждающие.
Должен оговориться, что я ни в какой степени не считаю всю изложенную классификацию сколько-нибудь окончательной: она помогает лишь несколько ближе подойти к постановке весьма важного вопроса о сложной функциональной обусловленности речи и имеет вполне предварительный характер.
§ 5. Рассмотрение языка в зависимости от условий общения является основной базой современного языкознания. То сложное разнообразие диалектов (языков, говоров, наречий), которое устанавливает, описывает и изучает генетически современная лингвистика, есть прежде всего результат условий общения и образования в связи с этим различных общественных группировок по различным признакам (территориальным, национальным, государственным, профессиональным и т. д.), группировок сложно между собою взаимодействующих. Конечно, языкознание в этом отношении еще не сказало своего последнего слова, но достижения его в области изучения диалектов (в широком вышеуказанном смысле слова) - огромны.
Нужно, однако, заметить, что в порядке изучения языка как явления среды и взаимодействия сред не поставлен еще вопрос, являющийся до некоторой степени основным, а именно вопрос о том, в какой мере речевое высказывание и речевое общение определяется с психологической и морфологической (в широком смысле этого слова) точек зрения условиями общения в данной привычной среде. Это еще нерешенная очередная задача. И, в сущности, только по ее разрешении может быть в полной мере исследован вопрос и о взаимодействии различных языковых сред.
§ 6. Гораздо меньшее внимание уделяло языкознание вопросу о целях речевого высказывания. Я не боюсь преувеличить, если скажу, что оно попросту игнорировало этот вопрос; это будет во всяком случае верно в применении к традиционному языкознанию «младограмматического» направления. Тем не менее можно указать ряд случаев, когда многообразия, основанные на целевых различиях, всплывали в науке, иногда в дисциплинах побочных, как, например, в теории поэзии, или в таких специальных отделах лингвистики, как так называемая философия языка.
В последнее время в связи с попытками построения научной поэтики интерес к многообразиям речи, вызываемым различиями ее целей, снова оживился, хотя ничего сколько-нибудь окончательно ценного по этому вопросу не сказано.
§ 7. Уже у Гумбольдта 3 отмечаются, иногда только упоминаются, некоторые функциональные речевые разнообразия. Прежде всего он это делает, противополагая «поэзию» и «прозу», как два различных явления языка, причем, однако, это различие проводится недостаточно ясно и не сопровождается языковым анализом; отмечается, что поэзия и проза, подчиненные со стороны «всеобщих требований» одним и тем же условиям, в своем «направлении» (цели?) и «средствах» (морфологических особенностях?) - «отличны друг от друга и собственно никогда не могут слиться» 4 , что «поэзия... неразлучна от музыки», а «проза предоставлена исключительно языку» 4 ; здесь под поэзией понимается, очевидно, стихотворная поэзия. Относительно прозы Гумбольдт указывает, что «язык пользуется в речи своими собственными преимуществами, но подчиняя их законодательно господствующей здесь цели» 5 . «Посредством подчинения и сочетания предложений в прозе совершенно особым образом развивается соответствующая развитию мыслей логическая эвритмия, в которой прозаическая речь... настраивается своею собственною целью» 6 . Разница между поэзией и прозой определяется также в противопоставляемых друг другу понятиях «искусство» и «естественность», «художественная форма поэзии» и «естественная простота прозы» 7 ; упоминает Гумбольдт и о «соотносительных положениях между поэзией и прозой и сближении между ними по внутреннему и внешнему существу» 7 , о том, что «прозаическое настроение» непременно должно искать «пособий письменности и что от введения письменности в развитии поэзии возникает два ее рода и т. д.» 8 . Что касается чисто языкового анализа, то Гумбольдт его не дает, но все-таки говорит, что «как в поэзии, так и в прозе язык действительно имеет свои особенности в выборе выражений, в употреблении грамматических форм и синтаксических способов совокупления слов в речь» 9 .
Говоря о взаимоотношениях между «прозой» и «действительностью», Гумбольдт утверждает: проза не может ограничиться только простым изображением действительности и остаться при одних чисто внешних целях, служа только как бы сообщением о делах, без возбуждения идей и ощущений. Тогда она не отличается от обыкновенной разговорной речи. Здесь устанавливается еще одна функциональная разновидность речи, и в другом месте Гумбольдт детализирует это понятие (обыкновенной разговорной речи) 10 , отличая «образованный и обильный мыслями разговор» и «повседневную или условную болтовню» 11 . Далее Гумбольдт выделяет язык «ученой прозы»; он говорит, что именно здесь язык получает окончательную определенность для отличия и установления понятий и самую чистую оценку склада предложений и их частей по отношению к одной общей цели 12 ; языку сообщается характер «строгости» и «сопряженной с наивысшей ясностью силы». С другой стороны, употребление языка в этой области приучает к спокойствию и воздержанности, а в синтаксическом складе - к избеганию всякого искусственного сплетения... Таким образом, тон ученой прозы совсем иной, чем прозы, изображенной выше. Здесь язык, вместо того, чтобы давать волю самостоятельности, сколько можно, должен приноровляться к мысли, идти вслед за нею и представлять ее собою 13 . Любопытно, что Гумбольдт как бы подчеркивает функциональность «ученого языка», когда полемизирует с теми, кто хотел вывести особенности языка Аристотеля из индивидуальных особенностей его «духа», а не из самой «методы мышления и исследования» в данном случае; он указывает на занятия Аристотеля музыкой и поэзией, на сохранившийся от него гимн, «исполненный поэтического одушевления», на некоторые места «Этики»; «аристотелевская дикция», и «платоновская дикция» противополагаются Гумбольдтом в связи с «разными методами», в связи с разным, мы бы сказали, телеологизмом их высказываний; Аристотелю, как индивиду, «ученая» речь была свойственна наряду с «поэтической», т. е. мы имеем здесь дело с функциональным разнообразием внутри индивида.
Говоря об «ученой прозе», Гумбольдт вносит детализацию, поскольку упоминает «о совершенно особого рода изяществе», которым отмечается «философский язык... в сочинениях Фихте и Шеллинга, и, хотя только в отдельных частностях, но зато поразительно, у Канта» 14 . Наконец, Гумбольдт упоминает и о прозе «красноречия», т. е. выделяет, как особую разновидность, ораторскую речь 15 .
§ 8. Что касается лингвистического подхода к различию «поэзии» и «прозы» и к выделению поэтической речи, как особой разновидности языка, то довольно значительный материал можно было бы найти в показаниях поэтов. Постоянно фигурирует этот вопрос и в «теории словесности», восходя генетически к Аристотелю. Прослеживать все это нет надобности, так как лингвистически убедительного здесь весьма мало. Я отмечу только то, что говорится по этому поводу у Аристотеля, так как здесь (насколько мне это известно) мы имеем источник указанной традиции, поражающий в наши дни отчетливостью и фактичностью подхода, несмотря на краткость этого места «Поэтики».
Я остановлюсь на мыслях, высказываемых Аристотелем во 2-й главе его «Поэтики» 16 .
Аристотель различает два «достоинства» языка: «ясность» и «благородство»; ясность достигается «употреблением слов и выражений простых и естественных, но при этом легко впасть в тривиальность... напротив, изысканные речения, снимая с языка повседневную одежду, придают ему внешность праздничную. К изысканным относятся слова заимствованные, метафоры, удлинения и все выходящее из пределов обыденного. Но изысканность в своей исключительности может породить загадочность или барбаризм... Итак, должно умелым образом перемешивать два этих элемента. На самом деле от слов общепринятых язык получает ясность, присоединением же слов иностранных, метафор, эпитетов и всего остального он делается благородным, избегнув тривиальности. Немало способствуют ясности и благородству языка удлинения, сокращения и различные в словах изменения. Подобное слово измененным своим звуком теряет печать повседневного...» 17 Указывая как на необходимую принадлежность поэтического языка на «изысканные выражения, метафоры и другие виды образного языка», Аристотель предлагает «заменить их на речь обыденную», приводя примеры; между прочим, он указывает на один и тот же ямбический стих у Эсхила и у Эврипида «с переменою одного только слова, вместо общеупотребительного поставлено изысканное, стих одного вышел прекрасным, другого - вялым» 18 ; далее Аристотель полемизирует с Арифрадом, осмеивающим трагиков за то, что они «употребляют выражения, не находящиеся в общежитии», и говорит, что «все эти выражения потому именно и нетривиальны (т. е. поэтичны. - Л. Я. ), что не живут более в обыденном разговоре. Чрезвычайно важно умело пользоваться словами составными, речениями изысканными и вообще всяким видом поэтического языка. Всего же важнее знать толк в образном языке» 19 . Любопытно, что Аристотель, говоря об особенностях поэтического языка, проходит через все «стороны» языка: касается фонетики («измененным своим звуком», место в стихе), словообразования («составные слова»), словоупотребления (не общеупотребительные слова), семантики (метафоры, эпитеты); не придает он преобладающего значения ритмичности, не основывает своих разграничений на противоположении стихов и прозы; еще в 1-й главе он говорит: «Для поэзии материею служит только одно слово, все равно будет то проза или стихи, многими или одним размером написанное сочинение»; далее он даже полемизирует с представителями «формального метода» (и тогда такие были!), «измеряющими поэзию метром», сваливая в одну кучу Гомера и Эмпедокла 20 .
Точно так же, как это видно из изложенного, он не придает доминирующего значения «образности». Говоря о метафорах (и образности), Аристотель остается в той же плоскости речевого рассмотрения, противополагая их «речи обыденной», а не вдаваясь в анализ особого мышления свойственного поэту; в другом месте метафоричность ставится в один ряд с другими явлениями языка: «Имя может быть общеупотребительное, из другого диалекта заимствованное, метафорическое, может служить для украшения, вновь изобретенное, удлиненное, укороченное, измененное». Если он все же говорит, что «всего важнее знать толк в образном языке», то тут же в следующих словах мотивирует почему: «Из всех красот поэзии только ему одному нельзя научиться...»; и дальше тотчас же переходит снова к «составным словам», «изысканным» 21 и т. д. Устанавливая общее понятие поэтического языка, он принимает во внимание все стороны речи, ведя анализ все время в плоскости сопоставления поэтического с повседневным, обыденным, общепринятым, общеупотребительным, свойственным обыденному разговору, и исходит в своем понимании поэтической речи от противоположения ее обыденной; необходимо отметить, что в каждом данном явлении поэтической речи Аристотель считает необходимым и присутствие обыденного, поскольку им обусловливается ясность и возможность понимания; наблюденные же особенности поэтической речи, ее существенные признаки, Аристотель подводит под категорию «благородства».
Еще раз подчеркиваю, что мы имеем у Аристотеля объективный и чисто речевой, я бы сказал, именно лингвистический подход к делу; анализируя явление поэтической речи, он и подходит к ней с точки зрения речевых особенностей, не пытаясь делать посылки к понятию "поэтическая речь" от внеречевых моментов, например, от особых свойств мышления, от особого "устремления духа" и пр. Этого далеко нельзя сказать о многих гораздо более поздних системах поэтики, в значительной мере страдающих однобокостью и выдвиганием какого-нибудь одного момента (например, "образности"). Приходится бесконечно пожалеть, что до нас не дошли другие сочинения Аристотеля на эту тему и что даже "Поэтика" дошла в своем сокращенном и конспективном варианте.
§ 10. Тщетно мы бы стали искать в научном языкознании младограмматического периода использования хотя бы гумбольдтовых разграничений, отмеченных выше. Для младограмматиков Гумбольдт «оказал преимущественно только нравственное влияние на позднейших исследователей» 22 , или его значение сводится к «окончательному перенесению исследования вопросов об общих условиях жизни языка... на почву психологии» 23 .
Вопрос о функциональном многообразии речи, затронутый Гумбольдтом, не всплывал, потому что казался не существенным при диалектологическом 24 изучении языка (с чем, разумеется, нельзя согласиться: развитие функционального языкознания несомненно внесет многие поправки в построение «диалектологов»), а если с ним и приходилось сталкиваться в порядке простого наблюдения языковых фактов, То по нему скользили, не останавливаясь, не считая соответственные факты подходящими объектами изучения. «Все языки и говоры, даже самых диких и некультурных народов, имеют одинаковую ценность для науки; последние во всяком случае более подходящие объекты научного исследования, чем литературные языки образованных народов, которые для лингвиста то же, что оранжерейные растения для ботаника» 25 . Вообще «литературный язык» это то понятие, которое особенно ярко подчеркивает необходимость функционального подхода к языку и с которым поэтому связано столько путаницы в языкознании. Я сошлюсь на некоторые места той же книги Томсона: в главе XI («Искусственные языки») дается характеристика «общенародного языка», «который является языком литературы, школы, администрации, деловых и частных сношений и пр. в образованном обществе данного народа... Но такой общенародный язык устного сношения образованного общества нельзя вполне отождествлять с языком литературы или вообще с письменным языком данного народа, так как в письменном изложении употребляются обыкновенно слова, выражения и конструкции, которые казались бы неестественными в устной речи» 26 .
Сколько путаницы в этой небольшой цитате! Проф. Томсон просто «отделывается» от «оранжерейного» вопроса, впадая даже в самопротиворечие: «общенародный» язык, который в начале объявляется и языком «литературы», далее отъединяется от него («нельзя вполне (!) отождествить»).
Как характерно это «или» между «языком литературы» и «вообще письменным языком»; совершенно ясно, что в термин «язык литературы» не вкладывается никакого точного содержания; термин «устная речь» употребляется в смысле «разговорная речь», так как иначе непонятно было бы место о «неестественности». Действительно, приходится, пожалуй, пожалеть, что Гумбольдт оказал только «нравственное» влияние на этого, в своей сфере очень знающего, очень тонко наблюдающего исследователя. В сущности, что касается функциональных разнообразий речи, научное языкознание находится еще в трогательном единении со школьной грамматикой, от которой оно же так рьяно в других пунктах открещивается: школьная грамматика, изучая, например, синтаксис «русского» языка, дает безразлично примеры и из разговорной речи, и из «прозы», и из «стихов»; но научное языкознание весьма недалеко ушло от нее, предполагая возможным изучение того же синтаксиса «литературного» языка на материале Грибоедова или Гоголя.
Здесь все еще господствует полное смешение понятий.
Классическим примером путаницы является известный цифровой подсчет словаря «английского чернорабочего», древнеперсидских надписей, «образованного человека с высшим образованием», «пишущего мыслителя», еврейского Ветхого завета и Шекспира; цифровые данные о словаре этих «языков» сопоставляются и предполагаются что-то показывающими, а между тем это, по существу, явный пример сопоставления несоизмеримых величин: это все равно, что складывать фунты с аршинами.
§ 11. Я не буду увеличивать примеров, где языкознание оказывается беспомощным перед фактами, из-за игнорирования функциональных разнообразий; основное это то, что самая постановка вопроса в такой плоскости языкознанию чужда, что сочинения по общему языковедению этого вопроса не касаются. Как я уже отмечал, перед лингвистами он вставал тогда, когда лингвисты заинтересовывались вопросами поэзии, а это случалось не весьма часто. Здесь в русской лингвистике нужно особенно отметить Потебню, который указал на существование «поэтических» и «прозаических» элементов в языке, что является с его стороны огромной заслугой, несмотря на не удовлетворяющую теперь разработку им этих вопросов.
Отмечу еще, что исследователи живых говоров, даже при своей лингвистической неподготовленности, иногда дают любопытный материал по интересующему нас вопросу; сюда относятся довольно многочисленные констатирования несовпадения словаря обиходной разговорной речи и поэтических произведений; правда, этот факт не осознавался, а если и объяснялся, то не по существу дела («архаичностью» поэтического словаря, литературными влияниями, «бродячестью» песен и пр.).
§ 12. Интерес и внимание к целевым многообразиям языка возник у нас в последнее время снова в связи с вопросами поэзии 27 .
Поскольку в центре внимания «Сборников» стоял поэтический язык, постольку первоначально были выделены две функциональные разновидности языка: практический и поэтический языки, причем классификационным моментом являлся целевой 28 ; это различение сопровождалось психологической характеристикой обоих случаев, довольно поверхностной. Уже позже участникам «Сборников» приходилось и в печати указывать, что термин «практический язык» покрывает весьма разнообразные явления речи и что им нельзя пользоваться безоговорочно; указывалось на необходимость различения обиходного, разговорного языка, языка научно-логического и пр. В этом отношении, по-видимому, многое внес московский лингвистический кружок и в частности Р. Якобсон. О разграничениях московского кружка можно судить по книге Якобсона 29 и по работе В. М. Жирмунского 30 . К сожалению, в обоих исследованиях эти вопросы затрагиваются мимоходом, и многое остается неясным.
Любопытно, что те функциональные различия, которые устанавливаются в вышеприведенных работах: разговорный язык, поэтический, научно-логический, ораторский - уже даны у Гумбольдта.
§ 13. Вопросу о формах речевого высказывания посвящены дальнейшие страницы моей статьи. Я остановился именно на этом вопросе по следующим причинам: во-первых, он, при обсуждении факта, многообразия речевых проявлений в последнее время, оставался как бы в тени, заслоненный моментом целевым (то, что в терминологии московского лингвистического кружка обозначается словами «функциональность речи»); во-вторых, потому, что разграничение, основывающееся на различении форм высказывания, должно предшествовать другим, особенно целевым разграничениям по методологическим соображениям. Действительно, производя разграничения в области «целевой», мы в сущности разграничиваем не языковые явления, а факторы этих явлений, и мы не можем сразу же дать хотя бы грубую проекцию этих разграничений в область самой речи. Между тем в нашем случае, исходя из различения форм речи, мы от внеязыковой области факторов перебрасываем мост к речевым явлениям, получаем возможность сразу же говорить, например, о различии сообщающих средств в той или иной разновидности или противопоставить как речевые явления монолог и диалог.
О ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ Глава IV.ОБ ЕСТЕСТВЕННОСТИ ДИАЛОГА И ИСКУССТВЕННОСТИ МОНОЛОГА
§ 32. Навстречу этой тенденции диалогической речи протекать в порядке простого волевого действия идет следующее явление, коренящееся в самом существе диалога. Я говорю о количестве употребляемых слов, т. е. о большей или меньшей объективной сложности речи. Общеизвестно, что ответ на вопрос требует значительно меньшего количества слов, чем это следовало бы для полного обнаружения данного мыслимого целого: «Ты пойдешь гулять?» «Да (я пойду гулять)», «Может быть (пойду (гулять))» и т. д. Диалог, конечно, не есть обмен вопросами и ответами, но в известной мере при всяком диалоге налицо эта возможность недосказывания, неполного высказывания, ненужность мобилизации всех тех слов, которые должны были бы быть мобилизованы для обнаружения такого же мыслимого комплекса в условиях монологической речи или в начальном члене диалога.
§ 33. В противоположность композиционной простоте диалога, монолог представляет собой определенную композиционную сложность; самый момент некоторого сложного расположения речевого материала играет громадную роль и вводит речевые факты в светлое поле сознания, внимание гораздо легче на них сосредоточивается. Монолог не только подразумевает адекватность выражающих средств данному психическому состоянию, но выдвигает как нечто самостоятельное именно расположение, компонирование речевых единиц. Появляется оценка по поводу чисто речевых отношений: «связно», «складно», «нескладно», «повторяется одно и то же слово на близком расстоянии», «слишком много который », «порядок слов нехорош» и т. д. Здесь речевые отношения становятся определителями, источниками появляющихся в сознании по поводу них самих переживаний. Несколько туманное, но очень реальное понятие «закругленности фразы», независимо от смысла, влияет на словоупотребление и, например, заставляет прибавлять слова там, где их, может быть, не нужно было прибавлять. На этой же почве возникают всевозможные явления синтаксического параллелизма и симметрии, так как сложность естественно вызывает какую-то организацию, построение.
§ 34. Письменная монологическая речь еще в большей мере должна быть противопоставлена диалогической. Те моменты мимики, жеста, интонации, вообще непосредственное восприятие собеседника и связанные с этим особенности в понимании речи, которые характерны для диалогической и отчасти монологической устной речи, здесь отпадают. Понимание производится за счет слов и их сочетаний. Если диалог, как было отмечено выше, по самому существу не способствует протеканию речевого процесса в порядке сложной деятельности, то, наоборот, при прочих равных условиях, письменная монологическая форма этой сложности особенно способствует и не только по тем причинам, которые свойственны ей как монологической, но именно в связи с «письмом», с посредственным общением.
Письменная речь является речью, закрепляемой в порядке ее осуществления; в результате остается, таким образом, нечто пребывающее, некоторое произведение. Закрепляемость письменной речи влечет более внимательное отношение к речевым фактам с точки зрения их адекватности данным нашим психическим состояниям: поговорка «что написано пером, того не вырубишь топором» имеет большие психологические основания и непосредственные следствия для обращения с речевыми фактами при письменной речи. В связи с отсутствием восприятия собеседника и только что отмеченным моментом закрепления, письменная речь вовсе не предполагает умаления значения собственно речевых фактов; наоборот, известный отбор выразительных средств, известное обсуждение всегда налицо, и речевая деятельность определяется как сложная.
Естественный уклон к просматриванию того, что написал, и к поправкам сказывается даже в таких простых случаях, как записка или резолюция на просьбе; на этом же основано и пользование черновиком; путь от «начерно» к «набело» и есть путь сложной деятельности; но даже при отсутствии фактического черновика момент обдумывания в письменной речи очень силен; мы очень часто сперва скажем «про себя», а потом пишем: здесь налицо «мысленный» черновик.
Глава VI.
АППЕРЦЕПЦИОННЫЙ МОМЕНТ В ВОСПРИЯТИИ РЕЧИ
§ 35. Известно французское выражение «esprit mal tourné», которое применяется к человеку, понимающему все, что ни услышит, в дурном, «неприличном» смысле. Можно сказать, что мы вообще понимаем или не понимаем то, что нам говорят, а если понимаем, то в том или другом определенном смысле, лишь в зависимости от того, что у нас «esprit tourné» "ум направлен»в том или ином отношении. Переводя это замечание на научный язык, мы можем сказать, что наше восприятие и понимание чужой речи (как и всякое восприятие) апперцепционно: оно определяется не только (а часто и не столько) внешним речевым раздражением, но и всем прежде бывшим нашим внутренним и внешним опытом и, в конечном счете, содержанием психики воспринимающего в момент восприятия; это содержание психики составляет «апперципирующую массу»данного индивида, которой он и ассимилирует внешнее раздражение.
§ 36. Апперципирующая масса, определяющая наше восприятие, включает в себя элементы постоянные и устойчивые, которыми мы обязаны постоянным и повторяющимся влияниям свойственной нам среды (или сред), и элементы преходящие, возникающие в условиях момента. Основными являются несомненно первые, вторые же возникают на фоне первых, модифицируя и осложняя их. Составной частью первых являются прежде всего, конечно, речевые элементы, т. е., попросту, знание данного языка, владение его разнообразными шаблонами. Далее я высказываю несколько соображений по поводу значения внеречевых элементов апперципирующей массы при восприятии речи.
§ 37. Всем известна игра, заключающаяся в том, что пишутся слова в неполном составе, пропущенные буквы заменяются черточками и вместо этих черточек предлагается поставить буквы так, чтобы было реконструировано все слово. Часто возможна подстановка разных букв, причем угадывающий ставит ту или иную букву, конечно, не случайно, но обнаруживая при этом содержание своей апперцепционной массы. В слове ду-а можно подставить и р , и ш , и м , и г , и в каждом отдельном случае та или иная подстановка будет определяться апперцепционным моментом, постоянным или преходящим. Принципиально правильно известное наблюдение, что слово под-о-ный моряк прочтет подводный , врач подкожный , и другие профессионалы: подзорный, подробный, поддонный, подложный и т. д.
Разнообразные сокращения являются также показательным материалом для иллюстрации апперцепционности восприятия речи. Когда мы читаем сокращенное обозначение имени и отчества (А. М. Иванов), расшифровывая это сокращение, то читаем «Анатолий Матвеевич» или «Александр Михайлович» в зависимости от содержания нашей апперципирующей массы. Именно эта возможность разной дешифровки сокращений в широкой мере использовалась и в наши дни, и раньше в комических целях. В одном водевиле Лябиша некая чета уезжает на дачу в местность «Chevreuse» и делает прощальные визиты; жена надписывает на визитных карточках «P. P. C.» («pour prendre congé»), а муж, неискушенный в тонкостях светских обычаев, читает «P. P. C.» как «partant pour Chevreuse» и защищает свое чтение, пока жена не убеждает его тем, что, уезжая в Версаль, пришлось бы писать «P. P. V.»; впрочем, муж окончательно убеждается лишь потому, что в последнем случае можно читать «V» не только как «Versailles», но и как «Ville-d"Avrai» или «Venise». Эта же расшифровка сокращений лежит и в основе игры «секретер», когда переписываются друг с другом начальными буквами слов; здесь понимание осуществляется при некотором тождестве апперципирующих масс переписывающихся, позволяющем осуществить правильную догадку, или же при шаблонности темы самого высказывания. На этом последнем основаны сокращения типа газетных объявлений: сама шаблонность темы высказывания есть случай проявления воздействия апперципирующей массы.
Все эти случаи с сокращениями и пропусками букв имеют значение больше, чем просто курьезные примеры, так как при обычном восприятии слов в речи мы также воспринимаем не все элементы слова, а лишь некоторые, восполняя остальное догадкой, основанной на ассимиляции апперципирующей массой, непосредственно определенной предшествующим восприятию данного слова речевым рядом.
§ 38. Приведу ряд примеров, иллюстрирующих то положение, что зачастую мы воспринимаем и понимаем чужую речь неправильно в зависимости от тех мыслей, чувств, желаний и пр., которые почему-либо преобладают в данный момент в нашей психике (явно или скрытно для сознания).
Случай 1. Я служил в Петрограде; однажды заболев, я остался в Петергофе у родных, куда мне привозили с места службы «паек», обыкновенно в приготовленном виде. Однажды среди привезенного оказался небольшой пакет, мягкий на ощупь. Я сразу же подумал, что это масло, которого давно не «выдавали», и спросил у привезшего, что это такое; мне ответили: «Форшмак», но я определенно не услышал ответа, и лишь развернув пакет и увидев, что это был форшмак, как бы вспомнил, что мне действительно ответили этим словом.
Здесь сразу возникшая мысль о масле определила невосприятие или вернее неосознание данного речевого раздражения.
Случай 2. Мой сожитель пришел со службы очень голодный, поджарил картошки и понес к себе; я тоже захотел есть и спрашиваю, можно ли еще поджарить картошку (т. е. топится ли плитка), он отвечает: «Нет», «догадавшись» по началу фразы «можно ли», что я прошу у него картошки; плитка же еще топилась.
Здесь определяющим неправильное восприятие моментом явилось чувство голода.
Случай 3. На Исаакиевской площади проходила воинская часть, раздалась команда «на место!»; один из стоявших на тротуаре подростков удивленно переспросил другого: «Маэстро?». Это неправильное восприятие объясняется, с одной стороны, малой знакомостью для подростка команды «на место!», с другой же активностью слова «маэстро», которое он, очевидно, почерпнул из обихода кинематографа, где этим словом пользуются куплетисты, обращаясь к руководителю оркестра или просто к играющей на рояле барышне, переходя от разговорной части своего номера к пению.
Случай 4. Я бегал по книжным магазинам в поисках книг по истории Сербии; наконец, на одном прилавке я нашел книгу, на обложке которой прочел «История Сербии»; я взял книгу и направился к приказчику, но уже по дороге увидел, что это была «История Сибири».
Случай 5. В последнее время мне пришлось заниматься изучением карты Балканского полуострова в поисках следов албанского населения в тех местах, где теперь албанцев нет; в памяти я все время держал группу албанских слов, особенно часто встречающихся в местных названиях Албании, и по направлению к этим словам делал многочисленные очитки, например, вместо «Бодрово» читал «Кодрово» (от алб. «кодре» холм) и т. п.
Случай 6. «Ревность его (Левина Л. Я. )... уже далеко ушла. Теперь, слушая ее слова, он их понимал уже по-своему... Смысл слов Кити теперь уже переводился Левиным так...»(«Анна Каренина») .
Примечания к Главам IVVI
37
Щерба Л. В.
Восточно-лужицкое наречие, т. 1. Пг., 1915. С. 3 и 4 приложения.
53
Бартош Наталья Нурмухаметовна
Должность:
воспитатель
Учебное заведение:
МБДОУ детский сад № 37
Населённый пункт:
город Иркутск
Наименование материала:
Статья
Тема:
"К вопросу о развитии диалогической речи"
Дата публикации:
14.03.2016
Раздел:
дошкольное образование
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Проблема диалога являлась предметом изучения многих исследователей
на современном этапе развития науки. С.Н. Цейтлин рассматривает диалог как
особый вид речевой деятельности. Функции диалога реализуются в процессе
непосредственного общения между собеседниками в результате чередования
стимулирующих и реагирующих реплик .
Л.П. Якубинский считает, что диалог выступает как «разновидность
человеческого поведения». По мнению исследователя, ему характерны
«перемежающаяся» и «непосредственная» формы, в которых речь организуется
определенным образом. Важнейшими характерными признаками диалога
являются: краткость, реплицирование, быстрота действия, постоянная смена
ролей, возможность недосказывания, которая обусловлена контекстностью .
Диалог составляет основу процесса коммуникации. Как отмечает Т.Г.
Винокур, процесс коммуникации нельзя свести только к простому обмену
сообщениями. Коммуникация является сложным, особым видом речевой
деятельности. Важное значение при этом имеет связь речи с ситуацией, которая
может быть различной: от неясно-выраженной, до случаев, когда речь
восполняется ситуацией и сопровождается действиями партнеров, имеет
характер комментария .
В процессе коммуникации согласованность поступков партнеров по
общению достигается с помощью кодирования и декодирования сообщений, то
есть процессе вербализации восприятия и понимания информации. В рамках
диалога эти процессы тесным образом взаимосвязаны, протекают параллельно.
А.А. Леонтьев указывает, что диалог связан с такими видами речевой
деятельности как говорение, слушание, письмо и чтение. В частности,
диалогическая устная речь реализуется в процессе говорения и слушания. Она
включает в себя обмен высказываниями, которые немедленно воспринимаются.
Также важной особенностью диалога является сильное воздействие участников
диалога друг на друга. Композиция диалога выступает как цельный речевой акт
.
А.А. Леонтьев считает, что диалог – первичная форма языкового
общения, естественная форма речевого общения. Характерной чертой диалога
называют чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и
последующим говорением другого. В диалоге говорящие всегда знают, о чем
идет речь, им не требуется развертывание мысли .
В работах А. Арушановой, Л.М. Крагшвиной и других авторов диалог
определяется как вид речи, которому свойственны ситуативность,
контекстуальность, непроизвольность и малая степень организованности .
Диалог противопоставляется монологу.
Диалогическая речь также рассматривается как функциональная
разновидность языка, реализующаяся в процессе непосредственного общения
между собеседниками и состоящая из последовательного чередования
стимулирующих и реагирующих реплик.
С.Н. Цейтлин среди основных языковых особенностей диалога выделяет
такие, как большое количество вопросительных и побудительных предложений
в стимулирующих репликах, частые повторы и переспросы в реагирующих
репликах, синтаксическая неполнота. Особенности художественно
обработанной диалогической речи определяются родом и жанром .
Т.Г. Винокур определяет диалог в качестве такой формы речи, когда
каждое высказывание адресуется собеседнику прямо и ограничено конкретной
тематикой разговора. Согласно данному определению, организация диалога как
формы речи предполагает наличие адресата, общую тематику высказываний,
разговорность. В различных научных источниках мы находим и другие
трактовки диалога .
Структура диалога, по мнению А.Арушановой, Л.П. Якубинского,
включает в себя следующие инициативные и ответные высказывания
(диалогические пары): вопрос – ответ; сообщение (информирование,
утверждение) – выражение отношения к сообщению; побуждение (просьба,
предложение, приказание) – реакция на побуждение (выполнение или отказ от
выполнения) .
Структура диалога допускает наличие повтора лексических элементов в
смежных репликах, грамматическую неполноту, опускание отдельных
элементов грамматически развернутого высказывания – эллипсы или элизии,
употребление стереотипных конструкций разговорного стиля, иначе говоря,
речевые «штампы». Простейшие формы диалога не требуют построения
программы высказывания. К примеру, реплики-высказывания типа
утвердительного или отрицательного ответа и т. п.
Л.П. Якубинский подчеркивает, что устная диалогическая речь всегда
сопровождается жестами, мимикой, интонацией. Языковому оформлению
диалога свойственна неполная, сокращенная, порой фрагментарная речь,
разговорная лексика и фразеология; простые и сложные бессоюзные
предложения; ее отличают краткость, недоговоренность, обрывистость;
кратковременное предварительное обдумывание. Связность диалога
обеспечивается двумя собеседниками. В диалоге используются шаблоны и
клише, речевые стереотипы, устойчивые формулы общения, часто
употребляемые в отношении к тем или иным бытовым положениям и темам
разговора. Речевые клише помогают вести диалог. Диалогическая речь
поддерживается не только благодаря внутренними, но и посредством внешних
мотивов .
Диалог как форма речи состоит из реплик, то есть отдельных
высказываний, из цепи последовательных речевых реакций. Структура диалога
включает в себя группы инициативных и ответных высказываний: вопрос-
ответ, сообщение, побуждение.
Главной особенностью диалога является
чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим
говорением другого.
Формирование диалогической речи в дошкольном возрасте является
важной составляющей процесса развития связной речи в целом. В младшем
дошкольном возрасте естественно формируются базовые предпосылки или
основа для диалогической речи, формируются важные умения: слушать другого
человека, отвечать на вопросы, формулировать собственные реплики, умение
использовать их в коммуникативной ситуации.
Как отмечает А.Г. Арушанова, формированию диалогической речи
предшествует формирование таких умений как: формирование диалогической
позиции, активного вопрошающего и ответного отношения к партнеру, умение
слушать и слышать, умение привлечь к себе внимание и к своей деятельности,
умение интересоваться собеседником и быть интересным к нему. Общение
ребенка со взрослыми выступает источником основных образов ведения
диалога. Именно в общении со взрослым ребенок очень рано учится говорить о
предметах, которые находятся вне поля зрения, вне данной ситуации, обучается
в ней ситуативному общению. Но, в то же время, автор отмечает интересную
особенность, что в общении со взрослым речь ребенка является более
ситуативной, чем в общении со сверстниками. И именно общение со
сверстниками является областью развития подлинной детской речевой
самодеятельности .
Основным методом формирования диалогической речи в повседневном
общении выступает разговор воспитателя с детьми. Общение воспитателя с
детьми должно строиться с учетом изменяющейся на протяжении дошкольного
детства потребности в общении. Разговор воспитателя с детьми тогда оказывает
свое развивающее влияние, когда для этого создана эмоциональная комфортная
атмосфера, когда присутствует личностно-ориентированная модель
взаимодействия и взрослый настроен на понимание, принятие и признание
личности ребенка.
По мнению Т.П. Колодяжной, пути влияния воспитателя на разговорную
речь детей очень разнообразны. Решающим средством во всех возрастных
группах является руководство разговорной речью детей в повседневной жизни.
Формирование разговорной речи осуществляется также на различных занятиях
.
В работе Л.М. Крагшвиной отмечается, что целенаправленное обучение
диалогической речи происходит в специально организованных
речевых
ситуациях направленных на формирование навыков составления диалога по
речевой ситуации. Это развитие умений договариваться во время общения,
расспрашивать собеседника, вступать в чей-то разговор, соблюдать правила
речевого этикета, высказывать сочувствие, убеждать, доказывать свою точку
зрения .
Эффективным методом развития диалогической речи являются
разнообразные игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, игры-
инсценировки и игры-драматизации). Д.Б. Эльконин приходит к мнению о том,
что игра даёт ребёнку возможность ориентироваться в реальных жизненных
ситуациях, проигрывая их неоднократно и как бы понарошку в своём
вымышленном мире, помогает становлению связной речи, вырабатывает
активное отношение к жизни и целеустремлённость в выполнении
поставленной цели .
Н.В. Краснощекова считает, что в старшем дошкольном возрасте смысл
игры заключается в типичных отношениях лица, роль которого выполняет
ребенок, с другими лицами, роли которых берут на себя другие дети, с
помощью ролевых диалогов устанавливается игровое взаимодействие. Роль в
игре выступает своего рода образцом коммуникативного поведения для ребенка
.
Все стороны жизни детского коллектива и детского сада в целом
становятся темой для разговоров с детьми. Задачи, поставленные в процессе
воспитания, с учетом возрастных особенностей детей обуславливают тематику
и содержание бесед.
По мнению А.Г. Арушановой, еще один метод развития диалогической
речи заключается в применении словесных поручений. Воспитатель дает
разнообразные поручения ребенку, например, попросить у помощника
воспитателя тряпочку для мытья кубиков, передать что-либо родителям и т.д.
При этом важно, чтобы ребенок повторил данное ему поручение с целью
усвоения информации и лучшего ее запоминания. После выполнения поручения
необходимо поинтересоваться, как ребенок с ним справился .
Помимо этого, в научной литературе описывается такой метод развития
диалогической речи, как чтение художественных произведений. Чтение
позволяет усвоить образцы диалогического общения. Диалоги, содержащие
вопросы и ответы, способствуют усвоению дошкольниками младшего возраста
не только форм различных высказываний, но и правил очередности,
разнообразных интонационных проявлений, а также помогают формированию
логики разговора.
В своей работе А.Г. Арушанова называет основные педагогические
условия формирования диалогического общения детей, а именно: развивающая
педагогическая среда, пространство общения; правила организации жизни
детей; неурочные формы обучения родному языку; недисциплинарные методы
привлечения и удержания внимания; эмоциональный комфорт, творческая
атмосфера в группе .
По мнению автора, организация пространства общения подразумевает
возможность объединения детей в небольшие подгруппы для игровой
деятельности и занятий. Поэтому, кроме просторной групповой комнаты,
полезно иметь мини-мастерские, мини-театр, мини-библиотеку, изостудию и
т.д. Желательно иметь модули, большие мольберты, фланелеграф, магнитные
доски и т.п. Чтобы дети активно осваивали пространство общения, нужно
учитывать определенные правила, которые заключаются в побуждении к
самостоятельному пользованию кабинетами; объединении детей разных
возрастов в инсценировках, играх на воздухе; привлечении родителей. Данные
правила способствуют формированию самостоятельности у детей, обогащают
их опыт общения с людьми разного возраста .
Ряд исследователей, таких как А. Арушанова, В.В. Гербова, Е. Горшкова и
другие, обращают внимание на то, что основная форма обучения диалогу – это
форма игры-занятия, фронтальная и подгрупповая. Такие игры-занятия
преследуют две основные цели: развитие речевого внимания, фонематического
слуха, речевого дыхания, артикуляционного аппарата детей, а также
налаживание игрового и речевого взаимодействия детей со сверстниками .
Условиями возникновения и поддержания диалога являются:
- взаимное понимание, интерес к теме диалога собеседников;
- умение слушать и слышать собеседника;
- равноправность участников диалога;
- активность и самостоятельность субъектов диалога.
Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что развитие
диалогической речи детей дошкольного возраста должно осуществляться в
рамках целенаправленного педагогического руководства, с использованием
разнообразных игровых приемов, развитием предпосылок диалогический речи
наряду со всеми сторонами речи.
Литература
1.
Арушанова, А. Истоки диалога [Текст] / А. Арушанова, Е. Рычагова, Н.
Дурова // Дошкольное воспитание. - 2002. - №10. - С. 82-90.
2.
Винокур, Т.Г. Диалог [Текст] / Т.Г. Винокур – М.: Дрофа, 1998. - С. 119-120.
3.
Колодяжная, Т. П. Речевое развитие ребенка в детском саду: новые подходы.
Методические рекомендации для руководителей и воспитателей ДОУ [Текст]
/ Т.П. Колодяжная, Л.А. Колунова. - Ростов - н/Д: ТЦ «Учитель», 2002. – 32 с.
4.
Короткова, Э. Л. Обеспечение речевой практики при взаимосвязи работы над
развитием диалогической и монологической речи [Текст] / Э.Л. Короткова //
Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного
возраста / Сост. М. М. Алексеева. - М.: Академия, 1999. - С.201-202.
5.
Крагшвина, Л.М. Этапы развития диалогической речи детей младшего
дошкольного возраста в игровой деятельности [Текст] / Л.М. Крагшвина /
Язык, сознание и образ мира. Материалы 7 Международного симпозиума по
психолингвистике и теории коммуникации. - М, 1997. - С. 86-87.
6.
Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста
[Текст] / Н.В. Краснощекова.- Ростов н/Д.: Феникс, 2006.-151с.
7.
Леонтьев, А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого
высказывания [Текст] / А. А. Леонтьев. - М.: Наука, 1969. - 397 с.
8.
Цейтлин, С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи [Текст]: учеб.
пособ. для вузов / С. Н. Цейтлин. - М.: Владос, 2000.- 240 с.
9.
Эльконин, Д. Б. Развитие речи детей в дошкольном возрасте [Текст] / Д. Б.
Эльконин. - М.: Педагогика, 1998. - 234с.
10.
Якубинский, Л.П. Избранные работы: Язык и его функционирование [Текст]
/ Л.П. Якубинский.- М.: Наука, 2006.- 264 с.
Л.П. Якубинский
О диалогической речи
(Якубинский Л.П. Избранные работы: Язык и его функционирование. - М., 1986. - С. 17-58)
http://www.philology.ru/linguistics1/yakubinsky-86.htm
Глава I. О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МНОГООБРАЗИЯХ РЕЧИ
§ 1. Речевая деятельность человека есть явление многообразное, и это многообразие проявляется не только в существовании бесчисленного множества отдельных языков, наречий, говоров и пр. вплоть до диалектов отдельных социальных групп и, наконец, индивидуальных диалектов, но существует и внутри данного языка, говора, наречия (даже внутри диалекта данного индивида) и определяется всем сложным разнообразием факторов, функцией которых является человеческая речь. Вне учета этих факторов и изучения функционально соответствующих им речевых многообразий невозможно ни изучение языка как непосредственно данного живому восприятию явления, ни уяснение его генезиса, его «истории».
§ 2. Язык есть разновидность человеческого поведения. Человеческое поведение есть факт психологический (биологический), как проявление человеческого организма, и факт социологический, как такое проявление, которое зависит от совместной жизни этого организма с другими организмами в условиях взаимодействия.
Отсюда очевидно, что те факторы, о которых мы говорили выше, будут либо факторы психологического, либо факторы социального порядка.
§ 3. Психологическая обусловленность речи предполагает необходимость различать следующие основные ее видоизменения: с одной стороны, речь в условиях нормального, патологического и ненормального состояния организма; с другой стороны, речь при преобладающем влиянии эмоционального или интеллектуального момента .
Все эти видоизменения (за исключением разве случая ненормального состояния организма) прекрасно учитываются современной лингвистикой; но, к сожалению, только учитываются, конкретного же исследования речевых явлений в плоскости обусловленности их теми или иными из указанных факторов почти нет. До сих пор лингвистика работает врозь с патологией речи, до сих пор не исследованы явления эмоциональной речи, нет даже сырого материала по этому вопросу за исключением области словоупотребления, где далеко еще не достигнуто удовлетворительных результатов. Влияние эмоциональных состояний различного порядка на произношение совершенно не изучено, а между тем это представляло бы огромный интерес для исторической фонетики, которая в этой области либо принуждена молчать, либо ограничивается случайными и малоубедительными замечаниями вроде приведенных мною в статье «О звуках стихотворного языка» . Точно так же не исследована в этом отношении и область синтаксиса.
Особенно плохо обстоит дело в лингвистике с речью при ненормальных состояниях организма , в частности я имею в виду речевую деятельность при лирическом стихотворном творчестве, где выяснение этого вопроса было бы особенно важно ввиду того, что тогда можно было бы выделить в речи лирического стихотворения те ее особенности, которые обязаны влиянию особого ненормального состояния организма и не имеют художественного происхождения.
§ 4. Что касается факторов социологического порядка, то они могут быть классифицированы следующим образом: во-первых, должны быть приняты во внимание условия общения в привычной среде (или средах) и взаимодействия с непривычной средой (или средами); во-вторых, - формы общения: непосредственные и посредственные, односторонние и перемежающиеся (об этом см. ниже); в-третьих, - цели общения (и высказывания): практические и художественные; безразличные и убеждающие (внушающие), причем в последнем случае интеллектуально и эмоционально убеждающие.
Должен оговориться, что я ни в какой степени не считаю всю изложенную классификацию сколько-нибудь окончательной: она помогает лишь несколько ближе подойти к постановке весьма важного вопроса о сложной функциональной обусловленности речи и имеет вполне предварительный характер.
§ 5. Рассмотрение языка в зависимости от условий общения является основной базой современного языкознания. То сложное разнообразие диалектов (языков, говоров, наречий), которое устанавливает, описывает и изучает генетически современная лингвистика, есть прежде всего результат условий общения и образования в связи с этим различных общественных группировок по различным признакам (территориальным, национальным, государственным, профессиональным и т. д.), группировок сложно между собою взаимодействующих. Конечно, языкознание в этом отношении еще не сказало своего последнего слова, но достижения его в области изучения диалектов (в широком вышеуказанном смысле слова) - огромны.
Нужно, однако, заметить, что в порядке изучения языка как явления среды и взаимодействия сред не поставлен еще вопрос, являющийся до некоторой степени основным, а именно вопрос о том, в какой мере речевое высказывание и речевое общение определяется с психологической и морфологической (в широком смысле этого слова) точек зрения условиями общения в данной привычной среде. Это еще нерешенная очередная задача. И, в сущности, только по ее разрешении может быть в полной мере исследован вопрос и о взаимодействии различных языковых сред.
§ 6. Гораздо меньшее внимание уделяло языкознание вопросу о целях речевого высказывания. Я не боюсь преувеличить, если скажу, что оно попросту игнорировало этот вопрос; это будет во всяком случае верно в применении к традиционному языкознанию «младограмматического» направления. Тем не менее можно указать ряд случаев, когда многообразия, основанные на целевых различиях, всплывали в науке, иногда в дисциплинах побочных, как, например, в теории поэзии, или в таких специальных отделах лингвистики, как так называемая философия языка.
В последнее время в связи с попытками построения научной поэтики интерес к многообразиям речи, вызываемым различиями ее целей, снова оживился, хотя ничего сколько-нибудь окончательно ценного по этому вопросу не сказано.
§ 7. Уже у Гумбольдта отмечаются, иногда только упоминаются, некоторые функциональные речевые разнообразия. Прежде всего он это делает , противополагая «поэзию» и «прозу», как два различных явления языка, причем, однако, это различие проводится недостаточно ясно и не сопровождается языковым анализом; отмечается, что поэзия и проза, подчиненные со стороны «всеобщих требований» одним и тем же условиям, в своем «направлении» (цели?) и «средствах» (морфологических особенностях?) - «отличны друг от друга и собственно никогда не могут слиться» , что «поэзия... неразлучна от музыки», а «проза предоставлена исключительно языку» ; здесь под поэзией понимается, очевидно, стихотворная поэзия. Относительно прозы Гумбольдт указывает, что «язык пользуется в речи своими собственными преимуществами, но подчиняя их законодательно господствующей здесь цели» . «Посредством подчинения и сочетания предложений в прозе совершенно особым образом развивается соответствующая развитию мыслей логическая эвритмия, в которой прозаическая речь... настраивается своею собственною целью» . Разница между поэзией и прозой определяется также в противопоставляемых друг другу понятиях «искусство» и «естественность», «художественная форма поэзии» и «естественная простота прозы» ; упоминает Гумбольдт и о «соотносительных положениях между поэзией и прозой и сближении между ними по внутреннему и внешнему существу» , о том, что «прозаическое настроение» непременно должно искать «пособий письменности и что от введения письменности в развитии поэзии возникает два ее рода и т. д.» . Что касается чисто языкового анализа, то Гумбольдт его не дает, но все-таки говорит, что «как в поэзии, так и в прозе язык действительно имеет свои особенности в выборе выражений, в употреблении грамматических форм и синтаксических способов совокупления слов в речь» .
Говоря о взаимоотношениях между «прозой» и «действительностью», Гумбольдт утверждает: проза не может ограничиться только простым изображением действительности и остаться при одних чисто внешних целях, служа только как бы сообщением о делах, без возбуждения идей и ощущений. Тогда она не отличается от обыкновенной разговорной речи. Здесь устанавливается еще одна функциональная разновидность речи, и в другом месте Гумбольдт детализирует это понятие (обыкновенной разговорной речи) , отличая «образованный и обильный мыслями разговор» и «повседневную или условную болтовню» . Далее Гумбольдт выделяет язык «ученой прозы»; он говорит, что именно здесь язык получает окончательную определенность для отличия и установления понятий и самую чистую оценку склада предложений и их частей по отношению к одной общей цели ; языку сообщается характер «строгости» и «сопряженной с наивысшей ясностью силы». С другой стороны, употребление языка в этой области приучает к спокойствию и воздержанности, а в синтаксическом складе - к избеганию всякого искусственного сплетения... Таким образом, тон ученой прозы совсем иной, чем прозы, изображенной выше. Здесь язык, вместо того, чтобы давать волю самостоятельности, сколько можно, должен приноровляться к мысли, идти вслед за нею и представлять ее собою . Любопытно, что Гумбольдт как бы подчеркивает функциональность «ученого языка», когда полемизирует с теми, кто хотел вывести особенности языка Аристотеля из индивидуальных особенностей его «духа», а не из самой «методы мышления и исследования» в данном случае; он указывает на занятия Аристотеля музыкой и поэзией, на сохранившийся от него гимн, «исполненный поэтического одушевления», на некоторые места «Этики»; «аристотелевская дикция», и «платоновская дикция» противополагаются Гумбольдтом в связи с «разными методами», в связи с разным, мы бы сказали, телеологизмом их высказываний; Аристотелю, как индивиду, «ученая» речь была свойственна наряду с «поэтической», т. е. мы имеем здесь дело с функциональным разнообразием внутри индивида.
Говоря об «ученой прозе», Гумбольдт вносит детализацию, поскольку упоминает «о совершенно особого рода изяществе», которым отмечается «философский язык... в сочинениях Фихте и Шеллинга , и, хотя только в отдельных частностях, но зато поразительно, у Канта» . Наконец, Гумбольдт упоминает и о прозе «красноречия», т. е. выделяет, как особую разновидность, ораторскую речь .
§ 8. Что касается лингвистического подхода к различию «поэзии» и «прозы» и к выделению поэтической речи, как особой разновидности языка, то довольно значительный материал можно было бы найти в показаниях поэтов. Постоянно фигурирует этот вопрос и в «теории словесности», восходя генетически к Аристотелю. Прослеживать все это нет надобности, так как лингвистически убедительного здесь весьма мало. Я отмечу только то, что говорится по этому поводу у Аристотеля, так как здесь (насколько мне это известно) мы имеем источник указанной традиции, поражающий в наши дни отчетливостью и фактичностью подхода, несмотря на краткость этого места «Поэтики».
Я остановлюсь на мыслях, высказываемых Аристотелем во 2-й главе его «Поэтики» .
Аристотель различает два «достоинства» языка: «ясность» и «благородство»; ясность достигается «употреблением слов и выражений простых и естественных, но при этом легко впасть в тривиальность... напротив, изысканные речения, снимая с языка повседневную одежду, придают ему внешность праздничную. К изысканным относятся слова заимствованные, метафоры, удлинения и все выходящее из пределов обыденного. Но изысканность в своей исключительности может породить загадочность или барбаризм... Итак, должно умелым образом перемешивать два этих элемента. На самом деле от слов общепринятых язык получает ясность, присоединением же слов иностранных, метафор, эпитетов и всего остального он делается благородным, избегнув тривиальности. Немало способствуют ясности и благородству языка удлинения, сокращения и различные в словах изменения. Подобное слово измененным своим звуком теряет печать повседневного...» Указывая как на необходимую принадлежность поэтического языка на «изысканные выражения, метафоры и другие виды образного языка», Аристотель предлагает «заменить их на речь обыденную», приводя примеры; между прочим, он указывает на один и тот же ямбический стих у Эсхила и у Эврипида «с переменою одного только слова, вместо общеупотребительного поставлено изысканное, стих одного вышел прекрасным, другого - вялым» ; далее Аристотель полемизирует с Арифрадом, осмеивающим трагиков за то, что они «употребляют выражения, не находящиеся в общежитии», и говорит, что «все эти выражения потому именно и нетривиальны (т. е. поэтичны. - Л. Я. ), что не живут более в обыденном разговоре. Чрезвычайно важно умело пользоваться словами составными, речениями изысканными и вообще всяким видом поэтического языка. Всего же важнее знать толк в образном языке» . Любопытно, что Аристотель, говоря об особенностях поэтического языка , проходит через все «стороны» языка: касается фонетики («измененным своим звуком», место в стихе), словообразования («составные слова»), словоупотребления (не общеупотребительные слова), семантики (метафоры, эпитеты); не придает он преобладающего значения ритмичности, не основывает своих разграничений на противоположении стихов и прозы; еще в 1-й главе он говорит: «Для поэзии материею служит только одно слово, все равно будет то проза или стихи, многими или одним размером написанное сочинение»; далее он даже полемизирует с представителями «формального метода» (и тогда такие были!), «измеряющими поэзию метром», сваливая в одну кучу Гомера и Эмпедокла .
Точно так же, как это видно из изложенного, он не придает доминирующего значения «образности». Говоря о метафорах (и образности), Аристотель остается в той же плоскости речевого рассмотрения, противополагая их «речи обыденной», а не вдаваясь в анализ особого мышления свойственного поэту; в другом месте метафоричность ставится в один ряд с другими явлениями языка: «Имя может быть общеупотребительное, из другого диалекта заимствованное, метафорическое, может служить для украшения, вновь изобретенное, удлиненное, укороченное, измененное». Если он все же говорит, что «всего важнее знать толк в образном языке», то тут же в следующих словах мотивирует почему: «Из всех красот поэзии только ему одному нельзя научиться...»; и дальше тотчас же переходит снова к «составным словам», «изысканным» и т. д. Устанавливая общее понятие поэтического языка, он принимает во внимание все стороны речи, ведя анализ все время в плоскости сопоставления поэтического с повседневным, обыденным, общепринятым, общеупотребительным, свойственным обыденному разговору, и исходит в своем понимании поэтической речи от противоположения ее обыденной; необходимо отметить, что в каждом данном явлении поэтической речи Аристотель считает необходимым и присутствие обыденного, поскольку им обусловливается ясность и возможность понимания; наблюденные же особенности поэтической речи, ее существенные признаки, Аристотель подводит под категорию «благородства».
Еще раз подчеркиваю, что мы имеем у Аристотеля объективный и чисто речевой, я бы сказал, именно лингвистический подход к делу; анализируя явление поэтической речи , он и подходит к ней с точки зрения речевых особенностей, не пытаясь делать посылки к понятию "поэтическая речь" от внеречевых моментов, например, от особых свойств мышления, от особого "устремления духа" и пр. Этого далеко нельзя сказать о многих гораздо более поздних системах поэтики, в значительной мере страдающих однобокостью и выдвиганием какого-нибудь одного момента (например, "образности"). Приходится бесконечно пожалеть, что до нас не дошли другие сочинения Аристотеля на эту тему и что даже "Поэтика" дошла в своем сокращенном и конспективном варианте.
§ 10. Тщетно мы бы стали искать в научном языкознании младограмматического периода использования хотя бы гумбольдтовых разграничений, отмеченных выше. Для младограмматиков Гумбольдт «оказал преимущественно только нравственное влияние на позднейших исследователей» , или его значение сводится к «окончательному перенесению исследования вопросов об общих условиях жизни языка... на почву психологии» .
Вопрос о функциональном многообразии речи, затронутый Гумбольдтом, не всплывал, потому что казался не существенным при диалектологическом изучении языка (с чем, разумеется, нельзя согласиться: развитие функционального языкознания несомненно внесет многие поправки в построение «диалектологов»), а если с ним и приходилось сталкиваться в порядке простого наблюдения языковых фактов, То по нему скользили, не останавливаясь, не считая соответственные факты подходящими объектами изучения. «Все языки и говоры, даже самых диких и некультурных народов, имеют одинаковую ценность для науки; последние во всяком случае более подходящие объекты научного исследования, чем литературные языки образованных народов, которые для лингвиста то же, что оранжерейные растения для ботаника» . Вообще «литературный язык» это то понятие, которое особенно ярко подчеркивает необходимость функционального подхода к языку и с которым поэтому связано столько путаницы в языкознании. Я сошлюсь на некоторые места той же книги Томсона: в главе XI («Искусственные языки») дается характеристика «общенародного языка», «который является языком литературы, школы, администрации, деловых и частных сношений и пр. в образованном обществе данного народа... Но такой общенародный язык устного сношения образованного общества нельзя вполне отождествлять с языком литературы или вообще с письменным языком данного народа, так как в письменном изложении употребляются обыкновенно слова, выражения и конструкции, которые казались бы неестественными в устной речи» .
Сколько путаницы в этой небольшой цитате! Проф. Томсон просто «отделывается» от «оранжерейного» вопроса, впадая даже в самопротиворечие: «общенародный» язык, который в начале объявляется и языком «литературы», далее отъединяется от него («нельзя вполне (!) отождествить»).
Как характерно это «или» между «языком литературы» и «вообще письменным языком»; совершенно ясно, что в термин «язык литературы» не вкладывается никакого точного содержания; термин «устная речь» употребляется в смысле «разговорная речь», так как иначе непонятно было бы место о «неестественности». Действительно, приходится, пожалуй, пожалеть, что Гумбольдт оказал только «нравственное» влияние на этого, в своей сфере очень знающего, очень тонко наблюдающего исследователя. В сущности, что касается функциональных разнообразий речи, научное языкознание находится еще в трогательном единении со школьной грамматикой, от которой оно же так рьяно в других пунктах открещивается: школьная грамматика, изучая, например, синтаксис «русского» языка, дает безразлично примеры и из разговорной речи , и из «прозы», и из «стихов»; но научное языкознание весьма недалеко ушло от нее, предполагая возможным изучение того же синтаксиса «литературного» языка на материале Грибоедова или Гоголя.
Здесь все еще господствует полное смешение понятий.
Классическим примером путаницы является известный цифровой подсчет словаря «английского чернорабочего», древнеперсидских надписей, «образованного человека с высшим образованием», «пишущего мыслителя», еврейского Ветхого завета и Шекспира; цифровые данные о словаре этих «языков» сопоставляются и предполагаются что-то показывающими, а между тем это, по существу, явный пример сопоставления несоизмеримых величин: это все равно, что складывать фунты с аршинами.
§ 11. Я не буду увеличивать примеров, где языкознание оказывается беспомощным перед фактами, из-за игнорирования функциональных разнообразий; основное это то, что самая постановка вопроса в такой плоскости языкознанию чужда, что сочинения по общему языковедению этого вопроса не касаются. Как я уже отмечал, перед лингвистами он вставал тогда, когда лингвисты заинтересовывались вопросами поэзии, а это случалось не весьма часто. Здесь в русской лингвистике нужно особенно отметить Потебню, который указал на существование «поэтических» и «прозаических» элементов в языке, что является с его стороны огромной заслугой, несмотря на не удовлетворяющую теперь разработку им этих вопросов.
Отмечу еще, что исследователи живых говоров, даже при своей лингвистической неподготовленности, иногда дают любопытный материал по интересующему нас вопросу; сюда относятся довольно многочисленные констатирования несовпадения словаря обиходной разговорной речи и поэтических произведений; правда, этот факт не осознавался, а если и объяснялся, то не по существу дела («архаичностью» поэтического словаря, литературными влияниями, «бродячестью» песен и пр.).
§ 12. Интерес и внимание к целевым многообразиям языка возник у нас в последнее время снова в связи с вопросами поэзии .
Поскольку в центре внимания «Сборников» стоял поэтический язык, постольку первоначально были выделены две функциональные разновидности языка: практический и поэтический языки, причем классификационным моментом являлся целевой ; это различение сопровождалось психологической характеристикой обоих случаев, довольно поверхностной. Уже позже участникам «Сборников» приходилось и в печати указывать, что термин «практический язык» покрывает весьма разнообразные явления речи и что им нельзя пользоваться безоговорочно ; указывалось на необходимость различения обиходного, разговорного языка, языка научно-логического и пр. В этом отношении, по-видимому, многое внес московский лингвистический кружок и в частности Р. Якобсон. О разграничениях московского кружка можно судить по книге Якобсона и по работе В. М. Жирмунского . К сожалению, в обоих исследованиях эти вопросы затрагиваются мимоходом, и многое остается неясным.
Любопытно, что те функциональные различия, которые устанавливаются в вышеприведенных работах: разговорный язык, поэтический, научно-логический, ораторский - уже даны у Гумбольдта.
§ 13. Вопросу о формах речевого высказывания посвящены дальнейшие страницы моей статьи. Я остановился именно на этом вопросе по следующим причинам: во-первых, он, при обсуждении факта, многообразия речевых проявлений в последнее время, оставался как бы в тени, заслоненный моментом целевым (то, что в терминологии московского лингвистического кружка обозначается словами «функциональность речи»); во-вторых, потому, что разграничение, основывающееся на различении форм высказывания, должно предшествовать другим, особенно целевым разграничениям по методологическим соображениям. Действительно, производя разграничения в области «целевой», мы в сущности разграничиваем не языковые явления, а факторы этих явлений, и мы не можем сразу же дать хотя бы грубую проекцию этих разграничений в область самой речи. Между тем в нашем случае, исходя из различения форм речи, мы от внеязыковой области факторов перебрасываем мост к речевым явлениям, получаем возможность сразу же говорить, например, о различии сообщающих средств в той или иной разновидности или противопоставить как речевые явления монолог и диалог.